ПЕРВАЯ МИРОВАЯ. ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ЭПИЗОД
На Дальнем Востоке и Тихом океане Германия имела не то чтобы обширную, но все-таки приличную колони*альную империю: Марианские, Каролинские, Маршалловы и Соломоновы острова, архипелаг Бисмарка, Но*вая Гвинея, Самоа, область Цзяочжоу на Шандунском полуострове. Было совершенно ясно, что судьба колоний будет решена на полях Европы, однако союзники с не*приличной поспешностью бросились расхватывать все, что плохо лежало. Причем делалось это даже в ущерб дей*ствительно необходимым операциям. Вспомните посто*янные причитания британских адмиралов относительно слабости флота на Тихом океане перед угрозой эскадры Шпее. А в это время корабль, который мог в одиночку истребить всю германскую эскадру, — линейный крей*сер «Аустралиа» — занимался сопровождением транспор*тов с войсками к Новой Гвинее и Самоа. Естественно, германская колониальная полиция не могла оказать со*противления регулярной армии, и колонии были окку*пированы союзниками. Острова севернее экватора ото*шли к Японии; все, что находилось южнее, прибрала Англия руками австралийцев.
Однако немцы располагали на Тихом океане и одним укрепленным пунктом. Речь идет о крепости Циндао. 15 августа Япония предъявила Германии ультиматум, в ко*тором требовала немедленно отозвать из японских и ки*тайских вод все военные корабли, а всю арендуемую у Китая территорию Цзяочжоу передать в течение месяца Японии без всяких условий и компенсаций. Для ответа была предоставлена одна неделя. Ультиматум был состав*лен в таких выражениях, что принять его немцы просто не могли. Это позволяло Японии вполне благородно объя*вить войну. 23 августа германский посланник был ото*зван из Японии (Обратите внимание на интересную терминологическую тонкость. В Японии великие державы имели не ПОСЛОВ, а ПОСЛАННИКОВ. Традиционно сложилось, что титул посла и полномочного министра имели иностранные представители в Лондоне, Берлине, Париже, Пе*тербурге, Вене. По традиции в этот список попал Мадрид, а пот Токио там не числился). И уже 23 августа был обнародован им*ператорский рескрипт об объявлении войны Германии.
Германия намеревалась закончить войну в Европе за 2—3 месяца, и крепость Циндао должна была это время продержаться. Она имела 2 линии обороны на сухопут*ном фронте и 8 береговых батарей, прикрывающих кре*пость с моря. Первая линия обороны, расположенная в 6 км от центра города, представляла собой 5 фортов, окру*женных широким рвом с проволочным заграждением на дне. Вторая линия обороны опиралась на стационарные артиллерийские батареи. Всего на сухопутном фронте насчитывалось до 100 орудий и 21 орудие на морском фронте. Гарнизон мирного времени состоял из 75 офице*ров и 2250 солдат. Командовал им капитан 1 ранга Мейер-Вальдек, который по совместительству являлся и гу*бернатором. Таким образом, в его руках находилась вся полнота власти, и никаких разногласий просто не могло возникнуть. История Порт-Артура не повторилась. В це*лом можно сказать, что крепость Циндао строилась для отражения атак русских, французских или английских экспедиционных отрядов. На серьезную борьбу с японс*кой армией она не была рассчитана.
Китай на всякий случай спешно объявил о своем ней*тралитете и одновременно обратился к великим державам с просьбой не переносить на его территорию воен*ных действий. Естественно, это было проигнорировано. И тут же совершенно неожиданно о своем нейтралитете объявила Австро-Венгрия. 24 августа пришел приказ ра*зоружить крейсер «Кайзерин Элизабет» и отправить ко*манду по железной дороге в Тянцзинь. Но 25 августа Ав*стрия объявила войну Японии, и все вернулось на круги своя. 310 австрийских моряков вернулись в Циндао, но 120 человек так и остались в Тянцзине. Мейер-Вальдек спешно мобилизовал добровольцев, и общая численность гарнизона крепости достигла 5000 человек. На подходах к порту были выставлены мины.
Для штурма крепости японцы выделили усиленную 18-ю пехотную дивизию. Ей были приданы 2 английских батальона из Вейхайвея, которые, впрочем, не имели не только артиллерии, но даже пулеметов. Общая числен*ность осадной армии достигла 32000 человек, для ее пе*ревозки были привлечены более 50 транспортов. Прикры*вал перевозку десанта и осуществлял морскую блокаду крепости 2-й флот вице-адмирала барона Камимуры. Эс*кадрой, действующей в районе Циндао, командовал вице-адмирал Като, ее состав приведен ниже.
Память о чудовищных гекатомбах Порт-Артура была еще свежа, и лавры генерала Ноги не прельщали коман*довавшего экспедиционным корпусом генерал-лейтенанта Камио Мицуоми. Поэтому он действовал с исключитель*ной осторожностью. Высадка десанта началась 2 сентяб*ря в бухте Лункоу на территории нейтрального Китая примерно в 180 километрах от Циндао. Только 25 сентяб*ря японцы подошли к границам германской концессии, где произошли первые стычки с германскими частями. 28 сентября крепость была плотно обложена и началась подготовка к штурму.
Но первое столкновение на море имело место гораздо раньше. 21 августа 5 британских эсминцев заметили вы*шедший из порта миноносец S-90 и погнались за ним. Вперед вырвался наиболее быстроходный эсминец «Кеннет», который в 18.10 завязал перестрелку. Хотя англий*ский корабль имел гораздо более мощное вооружение (4 орудия 76 мм против 3 орудий 50 мм на германском миноносце), в самом начале боя он получил попадание под мостик. 3 человека были убиты и 7 ранены, в том числе командир «Кеннета», который позднее скончался.' S-90 сумел завлечь своего противника в зону огня бере*говых батарей, но после первых же их залпов «Кеннет» вышел из боя.
В ночь с 30 на 31 августа эсминец «Сиротаэ» выскочил на мель у острова Лентао. Повреждения оказались слиш*ком велики, и команда была снята другим эсминцем. Немцы использовали подарок судьбы. 4 сентября в море вышла канонерка «Ягуар» и под прикрытием береговых батарей артогнем окончательно уничтожила японский эсминец.
Вообще флот принимал довольно активное участие в боях за Циндао. Броненосцы неоднократно обстреливали позиции немцев. Но только один раз корабли пострадали от огня береговых батарей. 14 октября броненосец «Трайэмф» получил попадание 240-мм снарядом и был вы*нужден уйти в Вейхайвей на ремонт. Интенсивные траль*ные работы дорого стоили японцам. На минах подорва*лись и затонули тральщики «Нагато-мару № 3», «Коно-мару», «Коё-мару», «Нагато-мару № 6».
Германские корабли поддерживали огнем свой левый фланг, пока японцы не подвезли тяжелые орудия. После этого даже в бухте Киаочао канонерки не могли действо*вать свободно. Самым ярким эпизодом в ходе действий на море стал прорыв миноносца S-90.
Даже заниматься сравнением сил противников на море не хочется, настолько велико было преимущество японско-английской эскадры. И все-таки немцы сумели боль*но ужалить своих противников. В сложившейся ситуации единственной реальной боевой единицей был эсминец S-90 капитан-лейтенанта Бруннера. Ни «Кайзерин Элизабет», ни канонерки не могли сделать абсолютно ничего. S-90 был старым угольным миноносцем, по случаю войны повышенным в звании до эсминца. Но все-таки он имел какие-то шансы на проведение успешной тор*педной атаки. Сначала планировалось атаковать японс*кие корабли во время обстрела ими береговых позиций, но командование быстро пришло к правильному заклю*чению о безнадежности дневной торпедной атаки оди*ночным кораблем. Поэтому к середине октября был вы*работан новый план.
Капитан-лейтенант Бруннер должен был ночью неза*метно выскользнуть из гавани и постараться пройти не*замеченным первую линию дозоров. Связываться с эс*минцами противника не было никакого смысла. Он дол*жен был атаковать один из крупных кораблей на второй или третьей блокадных линиях. После этого S-90 должен быть прорываться в Желтое море и уходить в один из нейтральных портов, например в Шанхай. Там можно было попытаться дозаправиться углем, чтобы снова ата*ковать блокадные силы, на сей раз со стороны моря.
17 октября в 19.00, после наступления темноты, S-90 вышел из гавани, хотя волнение было довольно силь*ным.
Миноносец прошел между островами Дагундао и Ланьдао и повернул на юг. Через 15 минут справа по носу были замечены 3 силуэта, которые двигались на пере*сечку на запад. Бруннер немедленно повернул вправо. Так как S-90 следовал средним ходом, ни искры из труб, ни бурун его не выдали. Германский корабль прошел под кормой группы японских эсминцев. Бруннер сумел про*скочить сквозь первую линию блокады.
В 21.50 S-90 повернул на запад в надежде встретить какой-либо из крупных кораблей. Скорость немцы по-прежнему не повышали. В 23.30 Бруннер повернул па об*ратный курс, чтобы еще до наступления рассвета вер*нуться в гавань, двигаясь под берегом со стороны полу*острова Хайси, если только не будет встречи с против*ником.
18 октября в 0.15 на расстоянии 20 кабельтов был за*мечен большой силуэт корабля, следующего контркур*сом. S-90 повернул на параллельный курс. Цель двигалась со скоростью не более 10 узлов. Так как вражеский ко*рабль имел 2 мачты и 1 трубу, Бруннер решил, что встре*тил броненосец береговой обороны. В действительности это был старый крейсер «Такатихо», который в эту ночь имеете с канонерской лодкой «Сага» нес дозорную службу на второй блокадной линии.
Бруннер чуть отвернул к югу, дал полный ход и с дистанции 3 кабельтова выпустил 3 торпеды с интерва*лом 10 секунд. Первая из них попала в носовую часть крейсера, вторая и третья — в середину. Японцы были застигнуты врасплох. Прогремел ужасный взрыв, который буквально разорвал крейсер на куски. Погиб 271 человек, в том числе командир корабля.
S-90 повернул на юг. Хотя «Такатихо» не успел сооб*щить, по радио об атаке, огромный столб пламени был и идеи очень далеко. Бруннер не сомневался, что японцы бросятся в погоню, и не стал пытаться прорываться обратно в Циндао. Он взял курс на юго-запад, примерно в 2.30 разошелся с японским крейсером, спешившим на север. Рано утром миноносец выбросился на камни возле мыса Тауэр примерно в 60 милях от Циндао. Бруннер тор*жественно спустил флаг, после чего команда высадилась па берег и пешим строем двинулась в направлении Нан*кина, где и была интернирована китайцами.
Генерал Камио вел осаду крепости медленно и мето*дично. Японцы расчищали себе дорогу массированным огнем осадных батарей. За время 7-дневной бомбарди*ровки, начатой 4 ноября, было выпущено 43500 снаря*дов, в том числе 800 снарядов калибра 280 мм. Пользуясь относительной слабостью береговой обороны, флот со*юзников подвергал крепость неоднократным обстрелам с моря, но их результаты оказались более чем сомни*тельны. Большой процент снарядов не разрывался, прямых попаданий почти не было зафиксировано. 6 ноября японцы пробили проходы через ров у центральной груп*пы фортов и приготовились к штурму, но его не после*довало. Рано утром 7 ноября Мейер-Вальдек отдал при*каз о прекращении сопротивления. На фортах были под*няты белые флаги, что стало абсолютной неожиданнос*тью для японцев. Еще до капитуляции немцы взорвали все укрепления крепости и затопили военные корабли и торговые суда.
Последнюю потерю японцы понесли уже после сдачи крепости. 11 ноября подорвался на мине и затонул мино*носец № 33.
Морские силы японцев
Броненосцы «Суво», «Ивами», «Танго», броненосцы береговой обороны «Окиносима», «Мисима», броненос*ные крейсера «Иватэ», «Токива», «Якумо», легкие крей*сера «Тонэ», «Могами», «Оёдо», «Титосэ», «Акаси», «Акицусима», «Тиёда», «Такатихо», канонерки «Сага», «Удзи», эсминцы «Сираюки», «Новакэ», «Сиротаэ», «Мацукадзэ», «Аянами», «Асагири», «Исонами», «Уранами», «Асасио», «Сиракумо», «Кагэро», «Мурасамэ», «Усои», «Нэнохи", «Вакаба» «Асакадзэ», «Югурэ», «Юдати», «Сирацую», «Микадзуки»
Транспорты и вспомогательные суда
Британская эскадра
Броненосец «Трайэмф», эсминцы «Кеннет», «Уск»
Германо-австрийские морские силы
Крейсер «Кайзерин Элизабет», канонерки «Ягуар», «Илтис», «Тигер», «Луке», эсминцы S-90, «Таку»
Англо-японское морское сотрудничество в годы Первой Мировой войны
Тимоти Д. Сакст
Командир подводной лодки умело маневрировал и достиг полной внезапности, атаковав союзный конвой возле Крита. Он подкрался к цели буквально на 200 мет*ров и выпустил торпеду. Она попала в эсминец между передними трубами и разворотила носовую часть кораб*ля. Его экипаж собрался в носовых кубриках на обед и потому понес огромные потери. Взрыв и начавшийся пожар унесли жизнь 67 моряков и командира эсминца. Но, несмотря ни на что, корабль остался на плаву и добрался до Пирея.
На первый взгляд, 11 июня 1917 года имела место обычная атака подводной лодкой U-27 союзного кон*воя, которая ничем не выделяется среди множества по*добных стычек. Тем не менее, оба противника узнали, с кем имели дело, лишь много лет спустя. Союзники ду*мали, что торпеду выпустила германская лодка, но лод*ка была австрийской. Австрийцы полагали, что торпеди*ровали британский эсминец, но это был корабль Япон*ского Императорского Флота «Сакаки».
В годы войны Япония оказала Великобритании ог*ромную, просто неоценимую помощь, самым важным эпизодом которой стали действия первой и последней Средиземноморской эскадры японского флота. Это со*единение, о котором долгие годы ничего не говорили, сражалось рядом с кораблями союзников в критический период подводной войны в 1917—18 годах.
Особенно удивительными после этого выглядят вы*сказывания многих английских историков, которые на*зывают действия Японии в годы войны поступками ша*кала, который крадет куски добычи у льва, никак не помогая тому в охоте. Документы говорят обратное. Дей*ствия японских кораблей на Средиземном море значительно помогли союзникам в самые мрачные дни 1917 года. Столь же важной была роль Японии и за пределами этого театра. Без ее помощи Великобритания потеряла бы контроль над Индийским и Тихим океанами. Немцы могли изолировать важнейшие британские доминионы Австралию и Новую Зеландию и помешать им участвовать в боях в Европе. Впрочем, и другие британские колонии от Адена и Индии до Гонконга и Сингапура могли оказаться в опасном положении. И, несмотря на это, отношение к Японии не изменилось. В 1914 году Великобритания смотрела на Японию с подозрением и неве*рием, а в 1918 году союзники уже откровенно презирали и опасались ее.
Более спокойному взгляду на роль Японии мешают те приобретения, которые она получила в результате вой*ны. Япония вступила в войну отнюдь не из альтруистических побуждений, но ведь Великобритания, Франция и Россия тоже были далеко не бескорыстны. Территории, которые Япония захватила в Китае и на Тихом океане, вполне сравнимы с новыми территориями, которые захватили Англия, Франция, Италия и британские доминионы. Япония участвовала в войне как союзник Великобритании, но одновременно преследовала свои собственные экспансионистские цели. И ее приобрете*ния вполне сопоставимы с затраченными усилиями и понесенными потерями.
Как Японский Императорский Флот взаимодейство*вал с Королевским Флотом в годы Первой Мировой войны? Хотя это и не требовалось по условиям англо-японского договора 1902 года, Япония объявила, что поддержит Великобританию и в войне против Германии, и отправила ультиматум в Берлин, пробуя отзыва гер*манских кораблей из японских и китайских под. Япония помогла установить контроль над Индийским и Тихим океанами в начале войны, захватив германскую кре*пость и военно-морскую базу Циндао. Она захватила гер*манские колонии на Тихом океане: Каролинские, Маршалловы и Марианские острова. Японский флот помог британскому изгнать германские крейсера с Тихого оке*ана. В начале войны вице-адмирал Максимилиан граф фон Шпее имел 6 крейсеров, находившихся на Каро*линских островах. После объявления войны Японией он был вынужден направиться к берегам Южной Амери*ки, где его поход завершился боями у Коронеля и Фолклендов. Японский флот помог союзникам сохранить контроль над Индийским и Тихим океанами, патрули*руя эти районы, когда британский флот был вынужден покинуть их. В 1917 году японцы освободили американ*ские корабли для действий в Европе. Японские корабли конвоировали транспорты с войсками и военными гру*зами в Европу из британских доминионов на Дальнем Востоке. Японцы строили военные корабли и передали союзникам значительное число торговых судов, так как судостроительная промышленность союзных держав, несмотря на предельные усилия, не справлялась со сво*ими задачами. Наконец, Япония оказала прямую воен*ную помощь на Средиземном море в 1917—18 годах, когда союзники под усилившимся давлением герман*ских подводных лодок всерьез рассматривали вопрос об уходе с этого театра. Истоки этого сотрудничества нужно искать в прошлом.
Англо-японский союзный договор 1902 года был за*ключен потому, что продвижение России в направле*нии Индии, Кореи и Манчжурии стало представлять угрозу обоим государствам. Первый Лорд Адмиралтей*ства Уинстон Черчилль, как и его предшественники, полагал естественным, что в случае войны в Европе Япония окажет помощь в Индийском и Тихом океанах. Напряженность в отношениях между Германией и Ве*ликобританией росла, и британский флот был реорга*низован в соответствии с изменившимися требования*ми. Теперь все британские линкоры были сосредоточе*ны в Европе, на Тихом океане остались только старые корабли. После русско-японской войны дислокация Королевского Флота приобрела ярко выраженный антигерманский характер. Черчилль с первого дня своего пребывания в Адмиралтействе активно проводил эту политику. Британские силы на Дальнем Востоке сократились с 5 броненосцев и 1 броненосного крейсера в марте 1904 года до 2 броненосцев, 1 линейного крейсера и 2 крейсеров в марте 1914 года.
Отстаивая такое решение, Черчилль в марте 1914 года во время выступления в палате общин заявил, что пора*жение главных сил британского флота в Европе сделает маленькую эскадру на Тихом океане беспомощной. Лю*бая британская эскадра в этом районе неизбежно будет уступать главным силам флота европейских противни*ков. Черчилль заявил, что «2 или 3 дредноута в австра*лийских водах будут бесполезны после поражения британского флота в отечественных водах».
Такая политика вела к росту зависимости Великобритании от союзников. Франция взяла на себя ответ*ственность за Средиземное море, а Япония должна была сыграть главную роль в защите китайских морей. В отно*шении Франции эта политика сработала нормально, так как все колониальные разногласия были урегулирова*ны, и Великобритания подписала с ней договор о «Сер*дечном Согласии» — Антанту. Однако отношения между Великобританией и Японией были довольно прохлад*ными, так как растущие имперские амбиции последней вызывали тревогу в Англии. Обе стороны немало пора*ботали для разрушения англо-японского союза. Экспан*сия Японии в 1913—14 годах вызвала серьезные опасения у британского министра иностранных дел сэра Эдуарда Грея.
Грей был против участия Японии в войне, опасаясь, что она расширит свои владения сверх всяких пределов. Несмотря на все возражения Адмиралтейства, он пы*тался помешать вступлению Японии в войну. 1 августа 1914 года Грей сообщил своему японскому коллеге Като, что Великобритании потребуется помощь только в случае атаки дальневосточных колоний. Грей опасался не только японской экспансии, но и реакции Австралии, Новой Зеландии и Соединенных Штатов на такую экс*пансию. Однако давление Первого Морского Лорда, тре*бовавшего активных действий против Германии по все*му миру, сломило сопротивление Грея.
11 августа 1914 года Черчилль, опасаясь, что Грей все-таки выступит против участия Японии в войне или по*старается ограничить такое участие, заявил ему: «Я ду*маю, что вы можете окончательно расхолодить их. Я не вижу середины между их участием и неучастием. Если они вступят в войну, мы должны приветствовать их как товарищей. Ваша последняя телеграмма в Японию почти враждебна. Я боюсь, что просто не понимаю хода ваших мыслей, и в этом аспекте не могу следовать ва*шим намерениям. Эта телеграмма заставляет меня тре*петать. Мы все составляем единое целое, и я хотел бы оказывать всемерную поддержку вашей политике. Но я категорически возражаю против препятствий японцам. Вы легко можете нанести смертельный удар нашим от*ношениям, последствия которого будут ощущаться еще слишком долго. Шторм вот-вот разразится». Выступле*ние Черчилля помогло изменить позицию Грея.
Правительство принца Ямагата Аритомо 15 августа предъявило Германии ультиматум, требуя отзыва гер*манских войск с Тихого океана. От немцев требовали вывести корабли из Циндао, взорвать укрепления порта и передать Японии Шантунгский полуостров. Японцы также требовали передачи им германских островных владений, рассеянных по Тихому океану. Германия не ответила, и Япония формально объявила ей войну 23 августа 1914 года. И тут подозрения Грея относительно намерений Японии начали оправдываться. Япония всту*пила в войну ради расширения своих владений в Ки*тае и на Тихом океане. Она также стремилась занять место в ряду великих держав (вспомните посла и по*сланника). Более того, японское правительство уже начало вспоминать неравноправные договоры, навязанные европейскими державами в 50-х годах XIX века. Однако эти мотивы вступления в войну были не лучше и не хуже, чем у остальных се участников. Однако что искренне возмущало европейцев — это неспособ*ность японцев относиться с отеческой заботой к тем, кто им уступал. Перечитайте повнимательней прекрас*ное стихотворение Киплинга «Бремя белого человека». В начале войны отношение к Японии было враждебным и оно серьезно не изменилось к концу военных действий, несмотря на помощь Японии союзникам. Расовая неприязнь еще более усугубила противоречия, они и союзники очень быстро забыли о вкладе Японии в их военные усилия.
Совместная экспедиция против Циндао
Англо-японское военное сотрудничество на Дальнем Востоке началось с дрязг. Сразу после вступления в войну Япония решила захватить порт Циндао, известный как «германский Гибралтар Востока». Шантунгский по*луостров, где находилась германская военно-морская база Циндао, в мирное время служил базой германской Дальневосточной эскадры. Като сообщил англичанам, что Япония вернет Циндао Китаю, но за плату. Он также сообщил, что Японии не нужна британская помощь, но Грей пропустил мимо ушей это предупреждение и прислал Южно-Валлийских пограничников и сигкхский батальон под командованием бригадного генерала Н.У. Барнардистона. Маленькая британская эскадра участвовала в блокаде Циндао, которая началась 27 августа 1914 года.
Англо-японские силы прибыли к Циндао 26 августа. Главные силы германской эскадры покинули Циндао за несколько дней до объявления войны Японией. В порту остались только устаревший австрийский крейсер «Кайзерин Элизабет», 5 канонерок и 2 эсминца. Слабость гер*манской эскадры позволила японцам использовать в опе*рации только устаревшие корабли. Циндао блокировали 3 бывших русских броненосца, 2 бывших русских броне*носца береговой обороны, 7 крейсеров, 16 эсминцев и 14 вспомогательных кораблей. Британская эскадра состо*яла из броненосца «Трайэмф», эсминца и госпитально*го судна.
2-й флот барона Камимуры Хиконодзё доставил япон*ские и британские войска, которые должны были вести осаду. Первая высадка японцев была проведена в Лунгкоу 2 сентября. 18 сентября японские десантники захва*тили бухту Лао Шао северо-восточнее Циндао, чтобы использовать ее как передовую базу для дальнейших опе*раций против крепости. 24 сентября в Китай прибыли британские войска. Англо-японская эскадра организова*ла плотную блокаду Циндао и занялась тралением мин. Гидросамолеты с транспорта «Вакамия» начали вести разведку. Они также провели первую в истории успешную «атаку авианосной авиации», потопив германский минзаг в Циндао. В течение всей осады поиска постоянно требовали помощи корабельной артиллерии и гидросамолетов.
18 октября японский флот получил ощутимый удар, когда старый германский миноносец S-90 проскользнул мимо патрульных эсминцев и потопил устаревший крей*сер «Такатихо» двумя торпедами. Во время осады Цин*дао японский флот также потерял эсминец «Сиротаэ», миноносец и 3 тральщика. При этом погибли 317 моря*ков и 76 были ранены, в основном на «Такатихо». Гер*манский гарнизон из 3500 солдат регулярных войск и 2500 резервистов, к которым присоединился экипаж «Кайзерин Элизабет», героически сопротивлялся. Япон*цы постарались сделать все, чтобы британские войска не участвовали в боях. 7 ноября 1914 года германо-авст*рийский гарнизон капитулировал. Британские войска, не участвовавшие в штурме, узнали о захвате Циндао постфактум. Захваченные немцы и австрийцы до конца вой*ны находились в лагерях в Японии. Японская армия по*теряла 414 человек убитыми и 1441 ранеными.
Японцы сохранили контроль над Циндао и постепенно прибрали к рукам весь Шантунгский полуостров, продвигаясь вдоль построенной немцами железной дороги. В результате первой совместной англо-японской операции Япония установила контроль над обширным районом Манчжурии, а трения между двумя государствами резко усилились.
Эскорт и патрулирование
Пока 2-й флот барона Камимуры помогал захва*тить Циндао, корабли 1-го флота присоединились к британским и австралийским кораблям в поисках эскадры фон Шпее. Сразу после начала войны вице-адмирал Тамин Ямая послал линейный крейсер «Конго» к Мидуэю, чтобы контролировать коммуникации, проходящие через этот район. Броненосный крейсер «Идзумо», находившийся у берегов Мексики, полу*чил приказ защищать союзное судоходство у берегов Америки. 26 августа адмирал Тамин направил броненосный крейсер «Ибуки» и легкий крейсер «Тикума» в Сингапур, чтобы усилить флот союзников в Юго-Восточной Азии. «Тикума» принял участие в поисках крейсера «Эмден», которые велись в Голландской Ост-Индии и Бенгальском заливе. Адмирал Мацумура Тацуо вместе с линкором «Сацума» и крейсерами «Яхаги» и «Хирадо» патрулировал на морских коммуникациях, ведущих в Австралию.
Более неотложные задачи заставили «Ибуки» выйти из Сингапура. Действия германского крейсера «Эмден» в Индийском океане вынудили командование направить крейсер в Веллингтон (Новая Зеландия). Там он первым из японских кораблей принял участие в сопровождении транспортов с войсками АНЗАКа (Австралийско-новозеландский корпус) на Средний Восток. «Ибуки» и другие японские корабли, как правило, со*провождали транспорты до Адена. Японцы также обес*печивали перевозку французских войск из Индокитая.
В октябре 1914 года японская эскадра адмирала Точиная Сёдзиро, усиленная британскими кораблями, иска*ла германские рейдеры в Индийском океане. В распоря*жении адмирала находились крейсера «Токива», «Якумо», «Ибуки», «Икома», «Ниссин», «Тикума», «Хирадо», «Яхаги». 1 ноября 1914 года японцы согласились с просьбой англичан ввести патрулирование зоны к вос*току от 90-го меридиана. Большая часть эскадры адмира*ла Точиная и прибывшие из Циндао корабли до конца месяца охраняли указанный район. После прибытия в Гонолулу германской канонерки (или малого крейсера, если угодно) «Гейер» броненосец «Хидзен» и крейсера «Асама» подошли к порту и находились там, пока 7 но*ября «Гейер» не был интернирован американскими вла*стями. Потом «Хидзен» и «Асама» вместе с «Идзумо» начали прочесывать берега Южной Америки, пытаясь найти германские корабли.
Использование японских кораблей спровоцировало нервную реакцию правительств Австралии и Новой Зе*ландии. Они вполне соглашались с тем, что японцы при*крывают их войсковые конвои, но резко выступили против захвата Японией Маршалловых, Каролинских и Марианских островов. После захвата Джалуита на Маршалловых островах эскадра адмирала Тамина 12 октября появилась в прекрасной гавани Трука на Каролинских ост*ровах. Эскадра контр-адмирала Тацуо Мацумуры 1 ок*тября захватила принадлежащий Германии порт Рабаул па острове Новая Британия. 7 октября она прибыла на остров Яп (Каролинские острова), где встретила германскую канонерку «Планет». Экипаж поспешно затопил крошечный корабль, чтобы он не попал в руки японцев. Сам остров был оккупирован японцами без инцидентов. В конце 1914 года 4 японских корабля стояли в гавани Сува на Фиджи, а 6 базировались на Труке.
Японское и британское правительства к концу 1914 года с трудом урегулировали вопрос о захвате германских вла*дений на Тихом океане. Японцы оставили за собой Ма*рианские, Каролинские и Маршалловы острова. Ново*зеландские войска высадились на Самоа под самым но*сом у японцев и прочно завладели этим стратегически важным островом. Чтобы избежать новых инцидентов, англичане согласились, что британские войска не будут действовать севернее экватора.
В 1914 году Королевский Флот мало что мог проти*вопоставить своему сильнейшему союзнику на Тихом океане. Англичане просто разрывались в попытках за*щитить свои торговые пути, проходящие по всему зем*ному шару. Более того, они желали, чтобы японцы при*няли участие в военных действиях на европейском те*атре. 6 августа 1914 года сэр Эдуард Грей обратился к японскому правительству с официальной просьбой о помощи. Но все кончилось перебазированием японских кораблей в Сингапур, о чем мы уже говорили. Позднее англичане просили отправить японские корабли снача*ла на Средиземном море, потом на Балтику, но оба раза получили отказ. В Японии армейское командова*ние имело значительно больший вес, чем флотское. На англо-германскую войну эти два вида вооруженных сил смотрели с прямо противоположных точек зрения. Японская армия была построена по прусскому образцу и обучена германскими офицерами. Японский флот создавался с помощью Великобритании и обучался на английский манер. Все это служило источником постоянных споров в японском руководстве. В феврале 1915 года японский флот нашел новую форму сотрудничества с англичанами, когда в Сингапуре вспыхнул мятеж ин*дийских частей. С кораблей эскадры адмирала Цучия Мацуканэ (крейсера «Цусима» и «Отова») был выса*жен десант морской пехоты, который вместе с британ*скими, французскими и русскими войсками подавил мятеж. В том же 1915 году японский флот оказал боль*шую помощь в охоте за германским крейсером «Дрез*ден». Он также охранял принадлежащий американцам порт Манила, чтобы германские корабли не могли им воспользоваться. В течение всего года японские кораб*ли, базирующиеся в Сингапуре, патрулировали в Южно-Китайском морс, море Сулу и у берегов Голландской Ост-Индии.
В феврале 1916 года сэр Эдуард Грей снова запросил помощи у японцев. После гибели нескольких судов на минах, поставленных германскими вспомогательными крейсерами, требовалось увеличить число кораблей, охотящихся за этими рейдерами. Японское правительство отправило в Сингапур флотилию эсминцев, чтобы охранять имеющий огромное значение Малаккский про*лив. Для патрулирования в Индийском океане была выделена дивизия крейсеров. Корабли японского 3-го флота патрулировали в Индийском океане и у Филиппин. Крейсера «Яхаги», «Ниитака», «Сума», «Цусима» и флотилия эсминцев патрулировали в Южно-Китайском море, море Сулу и у берегов Голландской Ост-Индии. В не*скольких случаях японские корабли выходили к острову Маврикий и к берегам Южной Африки. Наиболее силь*ные и современные легкие крейсера «Тикума» и «Хирадо» сопровождали войсковые конвои из Австралии и Новой Зеландии.
Япония действует вполсилы
Несмотря на самое широкое участие японских кораблей в защите союзного судоходства, в конце 1916 года адмирал сэр Джон Джеллико весьма скептически отозвался о действиях японцев. В письме адмиралу Дэвиду Битти он назвал их «не вполне удовлетворительными». Джеллико предполагал, что более эффективным действиям японцев мешает антипатия к Соединенным Штатам. Джеллико высказал подозрение, что японцы вынаши*вают идею создания «великой Японии, включающей в себя часть Китая, Юго-Восточной Азии, Голландскую Ост-Индию, Сингапур и Малайские государства». Он полагал, что японское правительство действовало на основе ложной уверенности в непобедимости германской военной машины. Но последние поражения на Сомме и под Верденом могли развеять эту уверенность. Его заявление, что «кроме продажи части вооружения русским и нам, Япония никак не участвует в войне», весьма точно отражало растущее недовольство Великобритании отка*зами японцев принять участие в войне в Европе. Британские морские офицеры всегда считали, что Японии «нельзя верить до конца», даже когда она оказала Анг*лии помощь в критический момент на Средиземном море. Если посмотреть на все это глазами японцев, то роль Японии в Первой Мировой войне будет выглядеть совсем иначе. Если японские вооруженные силы сразу ра*зошлись в мнении, какую из сторон следует поддержать, то средний японец не понимал, зачем вообще нужно воевать. Никакой угрозы со стороны Германии в Японии не чувствовал никто. Поэтому японское правитель*ство, поддерживая Антанту, старалось не давать обществу слишком много информации о войне.
Один из британских офицеров, находившийся в Япо*нии во время войны, подтверждает существование та*кой странной политики. Малькольм Кеннеди, посетив*ший японскую глубинку, был поражен тем, что кресть*яне, с которыми он беседовал, даже не подозревали, что их страна ведет войну. Но такое положение измени*лось в 1918 году, когда в Японии начались волнения. Рост доходов не успевал за инфляцией, подстегнутой военными расходами. Поэтому в августе 1918 года в Осаке, Кобе и Нагое имели место рисовые бунты.
Серьезно осложняло японское участие в войне и то, что гордость японцев была ущемлена серьезной дискри*минацией, которой подвергались японские жители Син*гапура. В торговле с Австралией и Новой Зеландией Япо*ния тоже находилась на положении государства второго сорта. Просьбы англичан о помощи стали более настой*чивыми в конце 1916 и начале 1917 года, когда ситуация на морских театрах резко ухудшилась. Германские рейде*ры продолжали успешно действовать в Индийском оке*ане. Во время своего плавания рейдер «Вольф» не только уничтожил торговые суда вместимостью 120000 GRT, но и связал огромное количество британских, француз*ских и японских кораблей. За ним охотились 21 крейсер, 14 эсминцев, 9 шлюпов. Японское правительство в об*мен па свою помощь потребовало признать захват Шантунгского полуострова и островных владений Германии. И ответ на возражения англичан японцы заявили, что просят не больше русских, которым был обещан Кон*стантинополь. Британское правительство долго обсуждало эту проблему, опасаясь негативной реакции со стороны американцев.
В феврале 1917 года японцы согласились расширить свое участие в войне и распространить зону патрулирования своего флота до мыса Доброй Надежды. Японский флот также включился в защиту судоходства у восточ*ных берегов Австралии и Новой Зеландии. В этих опера*циях участвовали крейсера «Идзумо», «Ниссин», «Тонэ», «Ниитака», «Акаси», «Якумо», «Касуга», «Тикума», «Сума», «Ёдо» и 3 флотилии эсминцев.
Япония также оказала значительную помощь союз*никам поставками вооружения в Европу в 1914 году. В 1914 году Япония вернула России 2 броненосца и крей*сер, захваченные во время русско-японской войны. Япон*ские заводы поставляли оружие и боеприпасы Велико*британии и России. В 1917 году Япония за 5 месяцев по*строила для Франции 12 эсминцев типа «Каба». Япон*ские моряки привели эти корабли на Средиземное море и передали французам. В декабре 1916 года Великобритания приобрела у Японии 6 торговых судов вместимос*тью 77500 GRT. В мае 1917 года англичане попросили японцев доставить в Европу завербованных китайских рабочих. Немного позднее Япония и Соединенные Шта*ты пришли к соглашению о строительстве на японских верфях торговых судов общей вместимостью 371000 GRT для американского Комитета по судоходству. Хотя война закончилась раньше, чем они были построены, Япония все-таки достроила их. Кроме того, Япония передала в распоряжение союзников часть своего торгового флота.
И лишь в одном вопросе Англии не удалось добиться от Японии уступок. Постоянные попытки Великобритании приобрести некоторые японские военные корабли для возмещения потерь своего флота вызывали раздра*жение японцев и задевали их гордость. В середине 1917 года адмирал Джеллико предложил приобрести в Японии 2 линейных крейсера. Он сомневался, что можно убедить японцев просто передать эти корабли под оперативное командование Гранд Флита. «Если даже они согласятся, сомнительно, чтобы эти корабли смогли сражаться с германскими линейными крейсерами, имея японские экипажи», — писал он. Японское правительство наотрез отказалось продавать или передавать англичанам какие-либо корабли. Позднее действия японской эскадры на Средиземном морс заставили Джеллико из*менить свое мнение относительно эффективности япон*ских экипажей.
В свете последующих событий любопытно выглядят взаимоотношения Японии с Соединенными Штатами. По просьбе англичан американцы перебазировали часть кораблей с Тихого океана в Атлантику, чтобы помочь Королевскому Флоту. Но сделать это можно было лишь потому, что американцам оказал помощь новый союзник — Япония.
Вступление Соединенных Штатов в войну потребо*вало от американцев полностью пересмотреть свою морскую стратегию и кораблестроительную политику. Ведь до 1917 года преобладало мнение, что после разгрома союзников на Америку сразу обрушатся объединенные силы Японии и Германии. Вскоре после вступления США в войну британская морская миссия во главе с Артуром Бальфуром попросила американцев изменить кораблестроительную программу. Раньше она предусмат*ривала строительство большого числа линкоров. В апре*ле — мае 1917 года Бальфур имел ряд секретных встреч с американскими представителями, в том числе с лич*ным посланником президента Уилсона полковником Хаузом. Англичане предложили начать массовое строи*тельство эскортных кораблей в обмен на обещание помощи в случае японо-американского конф*ликта. Но такое соглашение не было подписано из опа*сений вызвать раздражение Японии, которая в это время являлась важным союзником Великобритании. Тем не менее, сам факт ведения этих переговоров показывает глубину недоверия англо-американцев. Американские лидеры смотрели на проблемы взаимоотношений с Японией через призму китайского вопроса и расового превосходства Как позднее ехидно заметили журналисты, знаменитая серия военных планов американского флота вместо названия «Оранжевый» должна была бы называться «Желтый». Американцы постоянно требова*ли проведения в Китае политики «открытых дверей», и все это вместе взятое порождало сильные антияпон*ские настроения в американском обществе. Американ*ские лидеры обвиняли Японию в нечестном поведении, попытках добиться политических и территориальных преимуществ в Китае, о чем рассказывали многочис*ленные американские миссионеры.
Вступление Соединенных Штатов в войну привело к изменениям в японо-американских отношениях. Как и Великобритания в начале войны, Соединенные Штаты обнаружили, что зависят от благожелательного отноше*ния Японии и ее помощи на Тихом океане. Японская миссия в Вашингтоне, которую возглавлял Исии Ки*кудзиро, заключила соглашение, которое позволило американцам перевести часть кораблей в Атлантику на помощь англичанам. По секретному соглашению японские корабли патрулировали гавайские воды до конца войны.
В октябре 1917 года броненосный крейсер «Токива» заменил самый крупный американский корабль на Гавайях — броненосный крейсер «Саратога». В августе 1918 года крейсер «Асама» сменил «Токиву» и обеспечивал безо*пасность Гавайских островов до, своего возвращения в Японию в феврале 1919 года.
Несмотря на помощь японцев, американцы относились к территориальным захватам Японии так же, как англичане. Японцы ответили им тем же, и вскоре после окончания войны японо-американские противоречия приняли неразрешимый характер. Попытка японской экспансии в Сибири в 1918 году подлила масла в огонь, ведь американцы сами зарились на эти территории. Но уже в 1917 году Япония, числившаяся в союзниках Соединенных Штатов, официально считалась «наиболее ве*роятным противником».
Операция на Средиземном море
В начале 1917 года Япония, наконец, направила свои силы на европейский театр военных действий. 11 марта первые японские корабли под командованием адмирала Сато Кодзо покинули Сингапур. Сато повел на Мальту легкий крейсер «Акаси» и эсминцы «Умэ», «Кусуноки», «Каэдэ», «Кацура», «Касива», «Мацу», «Суги» и «Сакаки», которые все вместе составляли 10-ю и 11-ю флоти*лии эсминцев. По пути через Индийский океан соедине*ние приняло участие в поиске германских рейдеров и прибыло в Аден 4 апреля. 10 апреля Сато в ответ на на*стоятельные просьбы англичан согласился отконвоиро*вать британский войсковой транспорт «Саксон». Он вышел из Порт-Саида на Мальту в сопровождении «Умэ» и «Кусуноки». Остальные корабли японской эскадры по*следовали за ними и начали действия против герман*ских и австрийских подводных лодок, которые угрожали транспортам союзников на Средиземном море.
10-я и 11-я флотилии прибыли на Мальту в самый плохой для союзников период. В апреле 1917 года на Сре*диземном море союзники потеряли 218000 тонн, что со*ставило 7 % потерь за все время войны. Союзникам отча*янно не хватало транспортов, и они всерьез рассматри*вали идею сократить количество судов, идущих через Средиземное море, направив их вокруг мыса Доброй Надежды, и эвакуировав британские войска из Салоник.
Прибытие 1 крейсера и 8 эсминцев адмирала Сато не могло переломить ситуацию на Средиземном море. Тем не менее, японцы получили важнейшую задачу — сопровождать войсковые транспорты, которые везли подкрепления во Францию. Французская армия была обескровлена после бесплодных наступлений под Аррасом и Шампанью. Появление японских кораблей на Мальте позволило союзникам ускорить отправку транспортов. Японские корабли сопровождали транспорты из Египта прямо во Францию. На Мальту они заходили только, если конвои формировались на этом острове.
Эсминцы «Сакаки» и «Мацу», а также другие япон*ские корабли 4 мая 1917 года участвовали в драматичес*ком спасении солдат с транспорта «Трансильвания». Во время этой трагедии у берегов Франции погибли 413 че*ловек, но японские, французские и итальянские кораб*ли сумели спасти почти 3000 солдат, несмотря на опас*ность новых торпедных атак. Британское Адмиралтейство отправило телеграмму с благодарностями и поздравле*ниями японскому адмиралу за прекрасные действия во время спасательных работ.
В июне 1917 года крейсер «Акаси» был отозван. Его заменил старый броненосный крейсер «Идзумо». Вместе с ним на Мальту прибыли эсминцы «Каси», «Хиноки», «Момо» и «Янаги». Так как подводные лодки на Среди*земном море действовали все активнее, японскими мо*ряками были временно укомплектованы 2 британские канонерки, названные «Токио» и «Сайкио», и 2 эсмин*ца, названные «Канран» и «Сэндан». Численность японской эскадры на Средиземном море достигла максимума и равнялась 17 кораблям.
К концу лета все сомнения британских адмиралов относительно уровня подготовки и эффективности японских экипажей рассеялись. 21 августа контр-адмирал Джордж Э. Баллард, командовавший морскими силами на Мальте, сообщил в Адмиралтейство, что японцы со дня прибытия на Мальту оказали неоценимые услуги по конвоированию войсковых транспортов. Он напомнил Адмиралтейству, что до прибытия японских эсминцев у союзников не хватало кораблей для этой цели. В отношении эффективности японцев Баллард писал:
«Французские стандарты эффективности ниже британских, однако итальянские стандарты еще ниже. С японцами все обстоит иначе. Эсминцы адмирала Сато содержатся в совершенно исправном состоянии и проводят в море столько же времени, сколько и наши корабли. Оно значительно больше, чем у французских и итальянских кораблей любых классов. Более того, японцы совершенно независимы в вопросах командования и снабжения, тогда как французы ничего не станут делать самостоятельно, если эту работу можно переложить на других. Эффективность японцев позволяет их кораблям проводить в море больше времени, чем любому другому британскому союзнику, что увеличивает эффект присутствия японских кораблей на Средиземном море».
Помощь японцев оказалась особенно важна, когда в 1918 году начали весеннее наступление на Западном фронте. Англичанам пришлось перебросить боль*шое количество войск со Среднего Востока в Марсель. Японские корабли в критические месяцы апрель и май помогли переправить через Средиземное море более 100000 британских солдат. Кризис завершился, и япон*ские корабли занялись обеспечением перевозки войск из Египта в Салоники, где союзники готовили осеннее наступление. До конца войны японская эскадра провела через Средиземное море 788 транспортов союзников и помогла перевезти более 700000 солдат. Японская эскад*ра имела 34 столкновения с германскими и австрийски*ми подводными лодками, в которых получили повреж*дения эсминцы «Мацу» и «Сакаки».
Японские корабли оставались в европейских водах до мая 1919 года. После перемирия Вторая Специальная Эскадра адмирала Сато присутствовала при сдаче гер*манского флота. Крейсер «Идзумо» и эсминцы «Хиноки» и «Янаги» вышли с Мальты в Скапа Флоу, чтобы охранять германские корабли и отвести в Японию 7 тро*фейных подводных лодок, выделенных Японии.
Сато отправил эсминцы «Кацура», «Мацу», «Сака*ки», «Каэдэ» в Бриндизи, чтобы помочь в процедуре капитуляции германских и австрийских кораблей на Средиземном море. В декабре 1918 года он направил броне*носный крейсер «Ниссин» вместе с 8 эсминцами в Кон*стантинополь. Оставив там эсминцы «Касива», «Канран» и «Сэндан» (последние два следовало вернуть Королев*скому Флоту в 1919 году), эскадра вернулась на Мальту. Там она получила приказ сопровождать в Японию переданные ей в качестве репараций германские подводные лодки. Сато отправил «Умэ» и «Кусуноки» патрулировать в Адриатике и направился в Англию, собирая по дороге остальные японские корабли.
5 января 1919 года японская эскадра покинула Портленд. К флоту Сато присоединились «Идзумо», «Хиноки», «Янаги» и 7 германских подводных лодок. В конце марта на Мальте к ним присоединились «Умэ» и «Кусуноки». Плавучая база «Кванто» обеспечивала базирование лодок на Мальте. Вместе с крейсером «Ниссин» и 2 флотилиями эсминцев она повела лодки в Японию. Все корабли без происшествий прибыли в Йокосуку 18 июня 1919 года. «Идзумо» и последняя группа эсминцев поки*нули Мальту 10 апреля, чтобы совершить небольшое плавание по Средиземному морю. Они посетили Неаполь, Геную, Марсель и несколько других портов и вернулись на Мальту 5 мая. Через 10 дней последние японские корабли направились домой и 2 июля 1919 года благополучно прибыли в Йокосуку.
Бог благословит наш союз, и он будет долгим
Британские лидеры были просто обязаны благода*рить японскую Средиземноморскую эскадру, когда та уходила домой. Общее мнение выразил Уинстон Чер*чилль, который сказал: «Я не думаю, что японская эс*кадра сделала хотя бы одну глупость». Губернатор Маль*ты лорд Метуэн, проводя смотр японских кораблей в марте 1919 года, также благодарил японский флот «за его великолепную работу в европейских водах». Он вы*разил надежду, что «Бог благословит наш союз, скреп*ленный кровью, и он будет долгим».
Действия японских кораблей на Средиземном море заслуживают самой высокой оценки. Японские эсминцы провели в море 72% времени, что является самым вы*соким показателем для всех воюющих флотов. Англича*не проводили в море только 60% времени, французы и греки — не более 45%. Британские офицеры считали, что японские корабли действовали очень хорошо, по крайней мере, они не отклонялись от плана. Послевоен*ные заявления, что японцы «действовали хуже наших моряков», когда сталкивались с неожиданной ситуаци*ей, являются предвзятыми и не подтверждаются доку*ментами. Мы имеем примеры чисто японского понимания долга. Несколько японских командиров совершили харакири, когда погибли сопровождаемые ими транс*порты.
Так почему же англичане столь быстро забыли вклад японцев в общее дело союзников? Почему Великобрита*ния позволила англо-японскому союзу рухнуть в 1921 году? Самым простым объяснением является тот факт, что война резко упростила ситуацию на Тихом океане. От*сутствие общего врага подорвало основы союза. После того, как Германия перестала угрожать тихоокеанским владениям, а Россия — Индии, Великобритания боль*ше не нуждалась в союзе с Японией. Американское дав*ление подтолкнуло англичан к пересмотру отношений с Японией, новые территории которой изолировали принадлежащие американцам Филиппины и Гуам. До*военные расовые и политические трения между Соеди*ненными Штатами и Японией, временно забытые в 1917—18 годах, после войны вспыхнули с новой силой. Ни один западный историк не отметил вклад Японии в победу союзников.
Японские политики резко отреагировали на отношение к Японии в годы войны и во время переговоров и Версале. Уже в апреле 1917 года они представили ан*гличанам меморандум для опубликования в газетах. Многие помнили, что союзники пытались выступить в роли верховных судей при рассмотрении спора Япо*нии с Китаем из-за Шантунга. Явно враждебное отно*шение к Японии после войны заставило японцев по*верить, что англо-американский заговор против Япо*нии имеет расовую почву. Разрыв англо-японского со*юза подтолкнул Японию на сближение с Германией. Прибытие трофейных германских подводных лодок открыло первую страницу долгого сотрудничества гер*манского и японского флотов. Германское влияние и технологии быстро заменили английские. Множество японских морских офицеров учились в Германии в 20-х и 30-х годах.
Англичане имели раскинувшуюся по всему миру империю. Соединенные Штаты заявили о своих претензиях в виде «доктрины Монро», но обе страны обвиняли Японию в экспансионизме. После 1918 года ни одна из этих стран не собиралась поддерживать тесное сотрудничество с Японией, которая так им помогла в годы войны. Теплые отношения сменились отчужденностью. И в результате все это привело к нападению Японии на британские и американские владения на Дальнем Востоке через 23 года после того, как Япония, Великобритания и Соединенные Штаты были союзниками в «войне, которая покончит с войнами».
Автор: А. Больных








.jpg/800px-USS_Abraham_Lincoln(CVN_72).jpg)

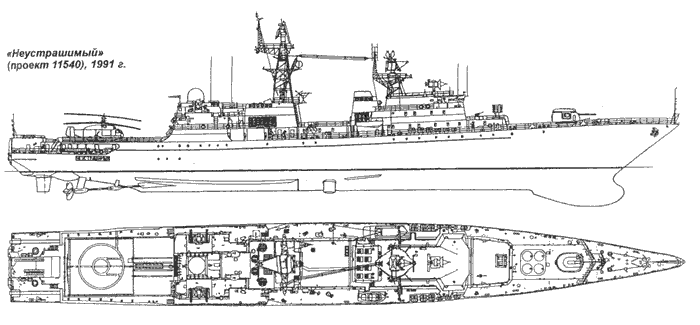


.jpg/800px-Aircraft_carrier_Admiral_Kuznetsov_(in_dock).jpg)

_DD-SD-99-06153.jpg/800px-Su27K_(Su33)_DD-SD-99-06153.jpg)
































Прокомментировать: